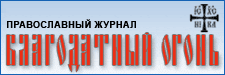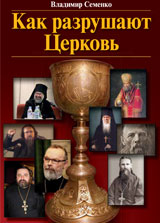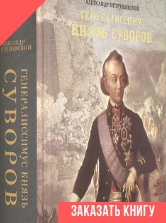Новости и комментарии
03.07.2025
Зеленский лишил гражданства главу УПЦ митрополита Онуфрия
28.06.2025
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы магов, ведьм и тарологов
24.06.2025
Бесовский шабаш на Троицу: патриархия молчит, православные правозащитники протестуют
16.06.2025
Похищенного ТЦК настоятеля Почаевского скита отправили в военную часть
Архимандрита Пафнутия вывезли в одну из военных ...
30.05.2025
Антиканонический беспредел в Кипрской Церкви
Доктор Элпидофор Сотириадис выступил с уничтожающей...
07.05.2025
В штате США священников РКЦ официально обязали раскрывать тайну исповеди
07.05.2025
Бандитское государство против канонической Православной Церкви
На Украине действия полиции порой ничем не отличаются...
23.04.2025
Бог вмешался в историю: папа-идолопоклонник умер перед запланированным "объединением церквей"
01.04.2025
Сенсационный каминг-аут Дональда Трампа
Официоз
Авторы
«СВЯТАЯ РУСЬ» НИКОЛАЯ КЛЮЕВА
Художественная концепция поэмы «Погорельщина»[*]
К 140-летию со дня рождения поэта
Мы пережили безумие иных миров,
преждевременно потребовав чуда;
то же произошло ведь и с народной душой:
она прежде срока потребовала чуда,
и ее испепелили лиловые миры революции.
А.Блок

Предисловие 2011 года
Эта работа, начальный вариант которой был создан еще в 1988 году, вскоре после того, как Николай Клюев стал возвращаться к нам в полном объеме своего поэтического наследия, носит подчеркнуто академический характер литературоведческого исследования. Однако проблематика ее до сих пор как нельзя более актуальна – не в смысле сиюминутности, но в смысле того, что касается она, если можно так выразиться, метафизического, религиозного нерва русской революции и вообще русской истории. Один из сложнейших поэтов своего времени, поражающий вдумчивого читателя своей метафизической глубиной даже и на фоне утонченного и рафинированного Серебряного века, Клюев – один из тех, кто всей своей жизнью и творчеством, можно сказать, на практике, «шкурой» своей и душой постигал этот нерв, выразил с необычайной силой поэтического прозрения самую суть тех духовных процессов, которые в конечном счете и привели к катастрофическому срыву 1917 года. Это делал, разумеется, не только он. Но именно он, как нам представляется, с непреодолимой силой своего поэтического чутья, художественного прозрения сумел проникнуть в самую суть, метафизический эпицентр русской революционной катастрофы.
Русская душа, почти что уже святая, находясь уже почти на вершине своего подвижничества, с которой открываются ей прекрасные дали, – обольщается, срываясь в самообожествление и забывая о Духе. Народ – община – Церковь забывает о Том, без Кого нет никакой святости, забывает о Христе. И начинается смерть и распад. Этот «софийный» соблазн русской души и сегодня более чем актуален, ибо мучительно изживается и преодолевается нами, всем русским народом до сих пор. И здесь – никак нельзя пройти мимо философской публицистики Серебряного века, впервые поставившей этот вопрос. Последние сто лет (возьмем такую условно-ровную цифру) никак его не сняли и не породили нового смыслового центра для русской души, из точки которого она могла бы изживать свои грехи и соблазны.
Для иллюстрации скажем еще лишь о двух общеизвестных вещах. Вот написал Бердяев о «вечно бабьем» в русской душе – и затаскали как хрестоматию, скользя по поверхности, совсем не желая вдумываться в глубину сказанного. Но истина не перестает быть истиной, как бы с нею ни обращались. Настоящий, большой культ «Родины–Матери», так расцветший в советскую эпоху, – разве это не культивирование этого «вечно женственного» начала с его «софийным» соблазном?
Скажу теперь последнюю мысль в связи с обозначенным кругом проблем, наверняка крайне неприятную для «патриотов». Бесконечное плаксивое нытье по поводу «ужасной реальности» вкупе с никак не подкрепленным предшествующим «дискурсом» заклинанием: «С Божьей помощью мы поднимемся, и Святая Русь воскреснет» – разве это не «вечно бабье» при полном отсутствии мужественности? И при этом – паническая боязнь этой самой реальности, упорное нежелание смотреть ей в глаза и видеть ее такой, какова она есть, понимать и осмыслять реальность, анализировать ее – разве это не типичное культивирование пресловутой «софийности», душевной стихии при отсутствии или недостаточном присутствии начала Логоса, иначе – смысла? Так прорывается на поверхность жизни то тут, то там, в очень существенных местах духовно-метафизическая проблематика, художественному постижению которой в числе других Клюев отдал свои главные силы. Это убеждает нас в актуальности и данной работы. Ибо при всем разгуле постмодерна, реагируя на его безобразия, нельзя забывать о высоком и вечном. Ибо только там сокрыт от «повседневности» объясняющий ее религиозный ключ.
* * *
Из всех поэтов, возвращенных нам за годы перестроечной «оттепели», Николай Клюев, как представитель традиционной, исконно русской культуры, испытал на себе в свое время, пожалуй, наиболее злобное отношение официозной критики. Теперь, когда замалчивание или шельмование многих важнейших сторон нашей культуры сменяется их открытым и гласным обсуждением, особенно важно понять такие, на наш взгляд, ключевые моменты, как творчество Клюева, не просто в их сиюминутной или исторической значимости, но прежде всего в их художественной и метафизической глубине. Тем более что в данном случае к этому располагает сам материал. «Клюев – пример удачного художественного воплощения духовного устремления вверх, того, что принято называть “белой” поэзией... Поэзия Клюева – книжка разноцветных картинок, иллюстрирующих его метафизику»[1].
Среди зарубежных исследователей Клюева очень много сделали в свое время издатели и комментаторы двухтомника поэта, вышедшего в 1969 году в ФРГ, – Б.Филиппов и Э.Райс. Что касается поэмы «Погорельщина», опубликованной в журнале «Новый мир» (1987, № 7, с. 81–97)[2], о которой главным образом пойдет речь, то, за исключением обстоятельной статьи Б.Филиппова во втором томе упомянутого двухтомника, а также весьма квалифицированного и ценного в научном отношении предисловия Н.И. Толстого к новомировской публикации, существует лишь одна статья советского исследователя, специально посвященная поэме[3]. Это статья В.Г. Базанова «Поэма о древнем Выге»[4]. Нужно отдать должное автору, проделавшему большую работу, изучившему многие письменные источники, связанные с историей старообрядчества на Русском Севере и оказавшие влияние на Клюева. Это исследование страдает, однако, двумя существенными недостатками. Во-первых, отчасти вскрывая весьма важный план художественного содержания поэмы, а именно план исторический, автор практически не учитывает, что для самого Клюева изображенное в поэме было реальностью метафизического порядка, то есть более высокого, чем план реальной истории (что мы и стремимся показать в дальнейшем, продолжая линию Б.Филиппова и Э.Райса). Во-вторых, что уже вовсе недопустимо, некоторые высказывания автора просто неграмотны. Так, например, выясняется, что Клюев «учитывал и новозаветную книгу Апокалипсис, и Откровение Иоанна»[5], что «для Клюева... именно Иродиада отрубила голову Иоанну Крестителю, чтобы затем совершать ритуальные танцы»[6] (интересно, где это автор нашел у Клюева такое своеобразное осмысление евангельского сюжета? – B.C.), что «по евангельскому преданию танцевала вокруг блюда с головой Иоанна Крестителя не Иродиада, а ее дочь Саломея»[7] (что касается Саломеи, то эта точно – танцевала. – B.C.); наконец, что «в народном сознании сложилось и свое (! – B.C.) осмысление библейской легенды о смерти Иоанна Крестителя (Иоанн Креститель якобы был казнен Иродом по настоянию его жены Иродиады «усекновением головы»[8]). (Надо же, как, оказывается, самостоятельно мыслил наш народ!) И т.д. Эти и подобные им пассажи убеждают в том, что член-корреспондент АН СССР В.Г. Базанов если и держал в руках Новый Завет, то читал его крайне невнимательно. Неясно только, каким образом подобные ошибки и несуразности могли быть не замечены редакцией почтенного журнала.
Для понимания поэмы необходимо усвоить, что при всем многообразии комплекса художественных и внехудожественных влияний, оказанных на Клюева, о которых пишет Н.И. Толстой в предисловии к поэме, все-таки перед нами прежде всего поэт русской христианской культуры, и все его взлеты, падения, достижения и соблазны связаны с ее судьбой. Художественная концепция поэмы при всей ее сложной наполненности многозначной символикой является своего рода художественным переосмыслением легенды о граде Китеже (своеобразной мечты о христианской России неведомого «золотого века»), о его «уходе» с Русской земли, недостижимости и стремлении к нему. Если русская поэзия и вообще литература конца 1910-х – начала 1920-х годов в значительной своей части была наполнена богоборческими мотивами, в которых «Святая Русь» воспринималась в качестве врага и этому врагу противопоставлялась мечта о собственно человеческом, земном царстве, построенном именно вопреки Божественным предначертаниям, в которые не верили и которые отрицались (достаточно указать на есенинскую «Инонию» или «Человека» Маяковского), то ценностная ориентация Клюева в этой поэме иная. Для автора «Погорелыцины» (написанной, напомним, уже во второй половине 1920-х годов) дорого именно святое, уходящее с Русской земли, и уходящее, по авторской концепции, по вине людей.
В начале поэмы мы видим знакомую по другим произведениям Клюева, в достаточной степени идеальную картину гармоничной, законченной в себе жизни малого человеческого сообщества – деревни Сиговый Лоб, – в котором органический народный уклад пронизан «божественными скрепами», своеобразными токами из иного мира. Характерно, что в «Погорелыцине» творчество крестьян, которых стоило бы назвать мастерами, представляя собой вполне самодовлеющую ценность, по большей части питается религиозно-мифологическими мотивами. Ведущая роль здесь принадлежит иконописцу Павлу. Процесс иконного письма, как и вообще процесс религиозного творчества, органически сопряжен у Клюева с жизнью природы, с естественно-природной стихией и неотделим от нее. Характерны эти природные, с точки зрения строгого «культурно-христианского» вкуса даже весьма рискованные, ассоциации: «Как нерпе сельди во мгле соленой» (т.е. животному – пища), «так духовидцу (! – B.C.) обряд иконный» (т.е. духовному человеку, визионеру – а подлинный иконописец всегда визионер[9], – его духоносное творчество).
Каждому иконописному сюжету в системе поэмы соответствует свой особый участок натурального, природного мира. Трудно удержаться от того, чтобы решительно не оспорить еще одно утверждение В.Г. Базанова, подобных которому в его статье немало: «...сиговский иконописец Павел, создающий фресковую (? – B.C.) живопись, ставит святых Егория и Миколу в самое обычное деревенское бытовое окружение и непременно изображает их на фоне “голубых озер”, освященных “ткачихой луной”. Вместо традиционной церковной иконы – избяная орнаментика и беломорский пейзаж»[10]. Здесь вопиюще искажен смысл текста поэмы. У Клюева не сказано, что на самой иконе изображен «беломорский пейзаж». Речь идет о природном прообразе соответствующей краски. Иконописец, глядя на тот или иной элемент окружающего его природного мира, изображает соответствующий иконописный сюжет:
Смиренному Павлу в персты и в зрачки
Слетятся павлинами радуг полки»[11].
Подобную же картину мы можем наблюдать и в поэме «Песнь о Великой Матери»[12]. Храм со всей его глубокой культовой символикой имеет прообраз в богосотворенной природе:
С товарищи мастер Аким Зяблецов
Учились у кедров порядку венцов...
Само строительство храма, в котором присутствуют: а) природный материал, б) природный порядок, в) творческий замысел строителей – осмысляется как своего рода культ, богослужение:
С товарищи мастер Аким Зяблецов
Воздвигли акафист из рудых столпов.
Деревья, сосны, из которых строится храм, осмысляются в этом контексте как жертва:
Из ваших телес Богородице в дар
Смиренные руки построят стожар...
Умирая в своем «натуральном» облике, природа воскресает в облике храма, устремляясь к Богу и «жизни будущего века» вместе с творцом храма – человеком. Речь идет не о смерти, но об успении леса:
Руда ваших ран, малый паз и сучец
Увидят Руси осиянный конец
(то есть речь идет о строительстве Китежа?! – B.C.).
Чтоб снова в нездешнем безбольном краю
Найти лебединую радость свою.
Совпадение исконного, природного порядка и порядка нового, создаваемого человеком, имеет в своей основе богосотворенность одного и уподобление Божественному порядку другого. Не случайно новый «лад», создаваемый строителями храма, увенчивается Самим Христом:
И тепля ущербы, Христова рука
Крестом увенчала труды мужика.
В этой взаимопронизанности «земного» и «небесного», природного и духовного Н.И. Толстой видит отражение христианско-языческого синкретизма народного сознания, что само по себе не вызывает сомнений. Однако художественная концепция самого Клюева в «Погорельщине» и в ряде других произведений опирается, на наш взгляд, прежде всего на сугубо христианское представление о Богочеловечестве, о «неслиянном и нераздельном» единстве Божественного и человеческого (хотя данное представление и подвергается у него существенной аберрации). При этом тем Лицом, той Богочеловеческой Личностью, в которой, по христианским представлениям, осуществляется единство двух природ, является у Клюева не что иное, как мир крестьянской, народной общности, сама деревня и, шире, – вся Россия, уменьшенной моделью которой является Великий Сиг. Лик Христов как бы заслонен ликом всеединой соборной Души России.
Надо отметить, что эта важная особенность клюевской поэмы выражает общую черту мироощущения поэта, его художественной концепции мира. Можно указать на наиболее, пожалуй, характерный пример – поэму «Мать-Суббота». Здесь ассоциация «Россия – Христос – Церковь» является еще более явной:
Светел запечный притин – ...
...................................................
Там образок Купины –
Чаша ржаной глубины
Тела и крови Руси,
Брат озаренный, вкуси![13]
(Выделено здесь и в дальнейшем нами. – B.C.)
В этой поэме весь процесс крестьянских работ, в начале которого – зерно, брошенное в землю, а в конце – испеченная коврига, неотделим у Клюева от Небесных Сил, и подобного рода ассоциации возникают постоянно. (Отсылаем читателя к тексту поэмы.) Процесс сотворения хлеба приобретает черты священнодействия, сам же хлеб, коврига, и в самом деле как бы художественно претворяется в хлеб причастия:
Сладостно цепу из житных грудей
Пить молоко первопутка белей,
Зубы вонзать в неневестную плоть –
В темя снопа, где пирует Господь.
Нетрудно понять, что здесь пшеница, зерно художественно-символически отождествляется с Богородицей, а молотьба и, по идее, последующие процессы сельскохозяйственных работ (помол и выпечка хлеба) ассоциируются с выкармливанием Марией Младенца Христа.
Испеченный же хлеб (коврига) представляется как «готовое» Тело Его[14]. В свете такого сопоставления не удивительно, что «тьмы серафимов над печью парят/ В час, как хозяйка свершает обряд»[15]. Итак, с одной стороны, здесь присутствует символико-ассоциативный ряд, в котором в известном смысле отождествлены Россия и Христос и соответственно – «Тело Христово», Церковь. (Разумеется, что все анализируемое – пример поэтически-художественного синкретизма, а никак не образец богословски точного осмысления.) С другой же стороны, логика художественного мышления Клюева такова, что поэт пытается как бы показать промежуточные ступени этого символического сопоставления. Если Россия воспринимается как страна прежде всего крестьянская, а основное дело крестьянина – выращивание хлеба, то отождествление России и «Тела Христова», Церкви, приобретает черты известного рода мотивации, ибо Тело Христово в таинстве Евхаристии и замещается хлебом. Хлеб становится как бы переходной ступенью, смысловым мостом в ассоциативном ряду «Россия – Христос». Подобное художественно-символическое отождествление является для самого Клюева поэтической аналогией таинства. В свете этого акта символического взаимозамещения одного другим более глубокий смысл приобретает убежденность Клюева в как бы «естественной» святости народно-крестьянского бытия.
Хлеб причастия, политый потом и кровью земледельца, является символом не только Самого Христа, но и той земледельческой общины, которая этот хлеб вырастила, точнее, этот хлеб является символом Церкви как «Тела Христова», Церкви, понятой как органическое сообщество, коллектив земледельцев и, шире, – весь христианский народ[16].
Эта система мотивов, уже достаточно разработанная в творчестве Клюева, в «Погорелыцине» присутствует в значительной степени подспудно, неявно, будучи преломлена своей особой гранью.
Нужно сказать, что для Клюева, как типично русского человека, гораздо более актуален женственный аспект человеческого сообщества, связанного с Небесными Силами (деревня, община, Церковь, а также тесно связанная и часто смешиваемая с ней Богородица), нежели собственно личностное начало в Богочеловеке. Несколько отвлекаясь от непосредственного анализа поэмы, заметим, что, по нашему предположению, в этом представлении сказывается общая непроясненность русской мысли начала века, в частности и прежде всего смешение Логоса и Софии.
В связи с анализом поэмы возникает целый комплекс проблем, носящих уже отнюдь не специально литературоведческий или обобщенно-философский, но богословский характер. В самом деле. Мир крестьянской, народной общности, данный в своем идеальном, а не реально-историческом состоянии, осмысляется Клюевым как «Святая Русь», как фактически достигнутое благодатное и обо-женное состояние. Здесь в значительной степени уже стерто различие между соборностью реальной и соборностью мистической, причем недостаточно четко различаются община, как «единение, достигаемое силою людского согласия» (А.С. Хомяков), и Церковь, как единение, достигаемое силою благодати Святого Духа.
Богочеловечество в применении к миру «Святой Руси» мыслится поэтом как реально существующее в этом мире, причем Лицом, Ипостасью, в которой осуществляется это единство Божественного и человеческого, является у Клюева, как мы уже указали, сама Россия, «София», «Горняя Русь» и т.п., которая, таким образом, до известной степени отождествляется с Христом. Однако вся эта завораживающая и очаровывающая поэтическая стихия, порой переходящая у Клюева (я имею в виду вообще все его творчество, в особенности раннее) в оргиастически-хлыстовский экстаз, таит в себе опаснейший соблазн уже прямой подмены Христа «Софией» – Россией – «Церковью», забвения Его. Действительно, ведь по христианским представлениям люди могут достигать единения с Богом, с Его неизреченной и трансцендентной природой, делая ее для себя имманентной. Но это единение совершается не по субстанции, а лишь по благодати Святого Духа, стяжание которой, в свою очередь, невозможно вне и в отрыве от Богочеловеческой Личности Христа. Онтологическая пропасть между двумя природами не заполняется. Наоборот, чем выше степень обожения, тем больше и эта пропасть между Божественным и тварным. У Клюева же, когда происходит отождествление Личности Богочеловека и всеединой души народа Божьего, порой переходящее в прямую подмену (и это не его личная особенность, а отражение вполне объективно существующего религиозного типа), нет четкого осознания и принятия этой онтологической пропасти между Творцом и тварью, и, таким образом, само обожение и якобы уже достигнутое благодатное состояние идеального крестьянского «рая» таит в себе опасность отрыва от трансцендентного источника благодати и, следовательно – обезбоживания. Фактически здесь существует соблазн (соблазн есть возможность, а не действительность) забвения о Боге вообще, в подсознательном стремлении обойтись одной лишь «софийной» божественностью, разлитой в мире, что в конечном счете ведет к пантеизму. Это поэтически-мистическое мышление Клюева восходит к хлыстовской мистике.
Характерно, что хотя сам Клюев никогда не был сектантом (что для современной науки является совершенно непреложным, доказанным фактом, о чем убедительно говорится хотя бы в упомянутой нами книге К.Азадовского), сам он при жизни творил миф о себе, согласно которому он якобы в ранней юности был хлыстом и «Давидом корабля», то есть как бы штатным слагателем радельных песен, за которые выдавались некоторые ранние стихи из сборника «Сосен перезвон» и др.
Хлысты, по их собственным представлениям, «обоживаясь», становятся «богами» именно по природе, по субстанции. Каждый может стать «христом» и каждая – «богородицей». И вся мистическая практика хлыстов направлена именно на «стяжание Духа» не путем покаяния, молитвенного подвига и аскезы, а с помощью особой техники радельного достижения экстаза. По точному слову Б.Филиппова, «христовщина растворяет Христа в народе, в человечестве, во всем сущем[17].
Вот какие бездны таит в своей метафизической глубине пресловутая женственность русского национального характера, вот чем может обернуться (а скорее всего, и обернулась) вся эта «софийно»-размягченная стихия «священного быта» русского народа, самодовлеющего и замкнутого в своем соблазнительном самодовольстве «святости». Ибо не требуется большого труда доказать, что старообрядчество (с которым, кстати, тоже был связан Клюев), при всех его положительных сторонах, есть лишь противоположный хлыстовству полюс все того же русско-«пра-вославного» «софийного» типа.
Таким образом, возвращаясь к Клюеву, следует сказать, что причина падения русской души (символизируемого эпизодом с Настей) не только вне ее, не только во внезапном нашествии «змия», но и в ней же самой. Если иметь в виду метафизический подтекст «Погорельщины», то «змий» появляется именно тогда, когда, в силу логики вышеизложенного, степень достигнутой «святости» и «обожения» русской души максимальна, но когда максимальна и степень смешения Божественного и человеческого, отождествления себя с Христом и, следовательно, забвения Его, в Его неизреченном, неслиянном и нераздельном единении двух природ. Таким образом, уход святых и святого с Русской земли, изображенный в «Погорелыцине», – наказание за забвение о Христе, подмену Его «Софией» – типично русский соблазн «святого неверия», богоборчества, скрытого под глубочайшим благочестием и «святостью». Разумеется, весь этот комплекс проблем есть глубинный пласт художественного содержания поэмы, который может быть понят лишь в контексте всего творчества поэта, эпохи, в которую он творил, и тех опять-таки глубинных процессов духовной жизни нации, которые нашли отражение в его творчестве.
Возвращаясь к непосредственному анализу произведений Клюева, видим, что в стихотворении «Белая Индия», например, само происхождение деревни (крестьянского «микромира») осмысляется как «Земли талисман, что Всевышний носил», оброненный Богом и подобранный Землей. Далее в том же стихотворении деревня предстает перед поэтическим взором Клюева не больше не меньше как «Христова брада», «преддверие Уст» (что является фактически уже прямым указанием на известного рода отождествление деревни с Софией), то есть своего рода метафизический центр не только Земли, но и Универсума вообще. Таких примеров можно привести немало.
Для понимания клюевской концепции мира в «Погорелыцине» важно учесть, что языческо-пантеистическое представление о взаимопронизанности человека и природных стихий, их неразделимости тесно связано с общим представлением ее автора о русском народе как Богочеловеческом организме. Всякий раз, когда Клюев говорит о людях, он имеет в виду природные стихии, и наоборот. Поэтому (если вернуться к сиговской иконописи в разбираемой поэме) рассказ о единстве божественного сюжета и природного «прообраза» неотделим от представления о единстве данного божественного сюжета и воплощающего его человека–творца. Человек в его единстве с природными стихиями и есть здесь для Клюева то «человечество», которое противостоит «Божеству» и соотносится с Ним. Здесь можно вспомнить и такие эпизоды поэмы, как общение подвижника Нила с земными тварями («белки столпника кормили») и то, что звери приходят к храму проститься с самосожженцами – «свекром с Силиверстом» и т.д. Необходимо обратить внимание на то, что своеобразная «приземленность» народно-крестьянской святости у Клюева, на которую справедливо указывают исследователи, в частности Н.И. Толстой или С.Куняев в предисловии к архангельскому изданию Клюева, – это опять-таки не «язычество» как таковое, во всяком случае, не только язычество. («Для Клюева – все чудесное, духовное, метафизическое рождено на земле...» – несколько, на наш взгляд, опрометчиво замечает С.Куняев[18].) Это есть не что иное, как народное восприятие и переосмысление русско-православного типа мистики, для которого, в отличие от устремленного ввысь, к небу католичества, характерна именно противоположная тенденция – ощущение как бы присутствия Бога на земле, «божественности» самого «священного быта», не стремящегося воспарять в горние выси[19].
Духовно-природное, богочеловеческое творчество осмысляется в поэме Клюева не как самодовлеющее искусство, а как процесс, тесно связанный с аскезой, с духовной работой человека, направленной на покаяние, – вполне христианский принцип, который присутствует здесь, несмотря на все сложности и соблазны клюевского миропонимания.
Не ешь лососины и с бабой не спи (пост. – B.C.),
Берестяный пестер молитв накопи (молитва. – B.C.),
Есть Спасову печень сподобишься ты
(поэтически-рискованное осмысление причастия. – B.C.)...
О русская сладость – разбойника вопь –
Идти к красоте через дебри и топь,
И пестер болячек, заноз, волдырей
Со стоном свалить у Христовых лаптей
(покаянно-молитвенное преклонение перед Христом. – B.C.).
Этот гармоничный и самодостаточный в авторском понимании мир, в котором дух и тело, земное и небесное находятся в естественно-органическом и в то же время сознательно-волевом равновесии, до поры до времени безмятежен (если только здесь в принципе возможно употребить слово «безмятежность»). Но вот глухим предупреждением и еще неясным беспокойством звучит:
«...чадца мои,
Не ешьте себя ни в нощи, ни во дни!»
Очевидно, что самопоедание противопоставляется здесь поеданию «Спасовой печени», иными словами – причастию[20]. А ведь, по христианским представлениям, именно через вкушение Плоти и Крови Христа, именно причастием духовно жив человек; именно здесь – источник его жизни, его духовного и телесного здоровья. Но кто же поедает сам себя? Что это за странная фраза? При некотором знании христианской культуры, в которой живет и творит Клюев, находится ответ: самопоедание – это богоборчество. Если в нормальном состоянии цельного человеческого существа, по богословскому святоотеческому учению, дух питается благодатию Божией, душа – духом, а тело – душой и, таким образом, вся жизнь человека есть путь непрестанного духовного восхождения, то в извращенном, обезбоженном состоянии, когда связи с подлинным источником жизни, с Абсолютом, с миром иным нет, дух начинает питаться за счет души, ее страстей, а душа – за счет тела, его физиологических потенций, цельное человеческое существо разлагается и, таким образом, самопоедание, самоуничтожение становится закономерным итогом богоборческого бунта. Это все прописные аскетические истины. Поскольку богоборец восстает против Бога, отрицает Его существование, то есть отрицает абсолютное бытие, то причастие Плоти и Крови Христа для него уже невозможно. И поскольку «свято место пусто не бывает», то, по элементарной логике богоборчества, на место Абсолюта такой человек ставит самого себя, и ему не остается ничего иного, кроме как духовно причащаться своей обожествленной плотью и кровью, поедать самого себя. Так логика богоборчества, последовательно доведенная до конца, предстает в поэме в виде символа, в котором смыкаются два сопряженных смысловых ряда: первый – самопоедание как людоедство (об этом см. ниже) и второй – духовное «самопричастие» и обусловившее его противление Богу.
Крайне любопытно сопоставить это людоедство – «самопричастие» в «Погорелыцине» – с тем, что говорилось выше о смешении и прямом отождествлении России и Самого Христа у Клюева, в частности в поэме «Мать-Суббота» («Тела и Крови Руси,/ Брат озаренный, вкуси!»). Субъектом самопоедания в контексте «Погорельщины» оказывается не отдельный индивид кирилловского типа, запечатленный Достоевским, а пресловутая «община», которая из «Святой Руси», устремленной ко Христу и питающейся благодатью Святого Духа, превращается, так сказать, в коллективного Анти-Христа, как только связь с Богом прерывается. Так в «Погорелыцине» неожиданно выявляется второй, потаенный смысл причастия «тела и крови Руси». Вспомним, наконец, что предупреждение «Чадца мои,/ Не ешьте себя ни в нощи, ни во дни!» относится не к отдельному человеку, а именно ко «всем», к коллективному субъекту.
В следующей части поэмы, не случайно отделенной от предыдущего текста звездочками, развертывается ее основное действие.
Порато баско зимой в Сиговце!
Эти и последующие строки – последние в ряду тех, что рисуют картину гармонического русского крестьянского и христианского мира:
Петух на жердке дозорит беса,
И снежный ангел кадит у леса.
«Песня, словеса лихие» – эпизод с Настей. Иной размер, сломавшийся ритм – все свидетельствует о нарушении размеренного течения «описательного» стиха. Роль этого эпизода, на наш взгляд, весьма велика. Тут даже не сказано прямо и определенно, что именно происходит. Но ясно – речь идет о грехе, связанном с прелюбодеянием.
Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет Настенька на белой доске,
Не оструганной, не отесанной,
Наготу свою застит косами!
Виноградье мое, виноградьице,
Где зазнобино цветно платьице?
Поэтическое мышление Клюева воспринимает происшедшее расширительно, как грех и порчу.
Ты, зозуля, не щеми печенки
У гнусавой каторжной девчонки!
(В свете всего сказанного выше любопытна возникающая здесь своего рода «противительная ассоциация» с поеданием «печени» Спаса в проанализированной выше части поэмы.)
Я без чести, без креста, без мамы,
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца.
Мне во злат шатер не воротиться!
Характерно, что этот эпизод осмысляется в последующем тексте не как частное, конкретное событие, а как нечто такое, что локально не определено, о чем нельзя сказать: это случилось там-то и с тем-то. Мотив греха приобретает здесь обобщенно-метафизическое значение.
Б.Филиппов указывает на особое сакральное значение имени «Настасья» в хлыстовской мистике. «Анастасия – Воскресение – чрезвычайно чтится тайными сектами», – пишет исследователь и приводит текст хлыстовской радельной песни, использованный в свое время еще Н.А. Некрасовым:
Ты Настасья, свет Настасья,
Отверзай царски врата,
Встречай батюшку Христа
С милосердьем, со прощеньем
И со светлым Воскресеньем.
«Были и хлыстовские богородицы – Настасьи, – продолжает Б.Филиппов. Имя (в поэме Клюева. – B.C.) дано со смыслом»[21]. По мнению исследователя, Анастасия является здесь символом России. «Растление Настеньки – растление Матери Сырой Земли, потаенной Руси, души народной»[22]. Нельзя не согласиться с Б.Филипповым в том, что падение Настасьи в системе поэмы несет на себе значительную символическую нагрузку, знаменуя падение русской души, души нации вообще[23]. Понятно, почему именно Настасья символизирует здесь русскую душу и почему совершается ее падение. Ведь хлыстовская «богородица», претендующая на роль единящего начала в человеческом сообществе, – это типичная прéлестная подмена богочеловеческого единства Церкви чисто человеческим, ложным и безбожным, безблагодатным (точнее – антиблагодатным) единством. Она подменяет Божество своим человечеством, выдавая его за Божество (или за обоженное человечество, что для нее в принципе безразлично). Как только такая подмена совершилась – уже нет всеединого Богочеловечества, а есть распавшийся хаос взаимоизолированных человеческих существ, отпавших от мировой целокупности. Где та грань, что отделяет ложное, недолжное «обожение» от прямого безбожия? Понятно поэтому, что эта Настасья – Россия – «София» – «Церковь» и не может не пасть. Таким образом, подмена Христа «Русской Душой», поэтически осмысляемой у Клюева как душа мира, София (причем, если иметь в виду собственно «христологическую проблематику, ее тварный и нетварный аспекты не различаются), на следующем этапе этого второго грехопадения приводит к искажению облика и самой Софии, к подмене идеальной соборной души русского народа клюевской «Незнакомкой» – хлыстовской «богородицей» Настасьей. Все это, на наш взгляд, – прямая аналогия Блоку[24], как явление, вполне вписывающееся в контекст напряженных духовных исканий, но и мистической прелести начала века. Оба по-своему, в своих поэтических образах, своими художественными средствами выражали, по сути, одну и ту же реальность. (Что отнюдь не было каким-то изолированным интеллигентским течением, но отражало глубинные процессы, происходившие в самом народе.)
Душа нации, достигшая не только вершин святости (ибо реальное обожение, по милосердию Божию и действительно создаваемое духовными трудами подвижников «Святой Руси», все-таки здесь присутствует), но и наибольших глубин прелести, пребывает в состоянии натянутой струны, когда достаточно малейшего колебания в ту или другую сторону (а у Клюева, если доводить до конца его поэтическую метафизику, эти две стороны сливаются воедино), чтобы совершилась «революция» – либо прорыв в мир вечного спасения, либо падение в бездну погибели. Но Бог не насилует воли людей, «змий» же тут как тут. И достаточно малейшего толчка, чтобы такой на первый взгляд прочный и стабильный мир «священного быта» и российского крестьянского «рая» полетел «вверх пятами».
В терминах русской философии и философской публицистики начала XX века данную коллизию можно сформулировать примерно следующим образом. Если у Достоевского мы имеем диалектику и метафизику человекобожеского индивидуалистического соблазна («интеллигентского»), то Клюев вплотную соприкасается (как с предметом изображения и как с дорогим его сердцу образом) с «софийным» коллективистским соблазном («народным»), который есть в конечном счете все то же «человекобожество», но только увиденное и представленное с другой стороны. Подобно тому как «человекобог» у Достоевского, абсолютизируя свою личность, перестает быть ею, теряя образ и подобие Божие, так и русская крестьянская община у Клюева, абсолютизируя свою «общинность» в ущерб личностному началу (подлинным носителем которого является только Бог и человек в его подобии Творцу), теряет ее, превращаясь в толпу поедающих друг друга индивидов. Душа нации осмысляется у Клюева как личность. Но сама по себе София – Церковь, как начало женственное, пассивное и «общинное», не является личностью, Ипостасью. Она является таковой лишь в своей обращенности к триипостасному Абсолюту, и в особенности к Его второй Ипостаси – Божественному Логосу. Поэтому подмена, о которой говорилось выше, скрытая до поры до времени измена Христу, ведет к тому, что душа нации теряет и эту свою личностность, ипостасность, подменяется «ипостасью» чисто человеческой, самозванческой и соответственно перестает служить единящим началом человеческого сообщества, и «община» распадается. (Разумеется, эта тенденция не лежит на поверхности, и выявление ее у Клюева требует некоторых усилий и известного уровня абстракции.)
Интересно, что все сиговские мастера, за исключением Павла, воспринимают песню о Настасье не просто как «свой», природный звук, но именно в русле своего ремесла, творчества, созвучного с богоустроенным порядком природы. «Сюжет» песни, пришедший как бы ниоткуда, воспринимается ими как нечто вполне созвучное собственному душевному и творческому строю. Никто, кроме иконописца (и духовидца!) Павла, не осознает страшной истины, открывающейся только ему:
Чадца, теля не от нашей рыси...
В этих словах иконописца (а потому в своем роде богослова и подвижника) Павла – чисто христианское осмысление греха как «не моего», «не нашего», внешнего. Ибо в этой системе взглядов важно не столько то, что грех совершен, сколько то, принят ли он в себя, как свое, или нет.
Дальше, после этого акта метафизического падения народной Души, развертывается картина нашествия «змия», обезбоживания земли.
И с иконы ускакал Егорий,–
На божнице змий да сине море!..
Мотив ухода святых с икон, исчезновения лика, превращения иконы в голую доску (причина этого – забвение Лика Христова и, следовательно, – потеря и своего собственного лица) вообще характерен для русской литературы 1920-х годов. (См., например, у Л.Леонова в «Петушихинском проломе».) И всякий раз это связано с неким принципиальным и сознательным выбором, сделанным не в пользу веры. Достаточно внимательно прочитать «Петушихинский пролом», чтобы убедиться в этом. Характерно, что первым уходит «Егорий» – Георгий Победоносец, воитель, обороняющий Русскую землю от «змия».
Неусыпающую в молитвах Богородицу
Кличьте, детушки, за застолицу!
Дальше следуют великолепные строки – поэтическая молитва, шедевр клюевского творчества. В ней важно прежде всего то, что люди обращаются к Богородице и святым с просьбой спуститься к ним, на землю. Это состояние (то есть когда Богородица и святые здесь, с людьми) рассматривается в данном отрывке поэмы как желаемое, а не как действительное.
Но сознание и воля, извращенные и развращенные грехом, осмысляемым в метафизическом плане как глубинное склонение воли в сторону зла, бессильны и в молитве.
Гляньте, детушки, на стол –
Он стоит чумаз и гол:
Нету Богородицы[25]
У пустой застолицы!
То же самое происходит и с Миколой (святителем Николаем), которого призывают персонажи поэмы.
Дальнейшее действие – не просто гибель и распад. Метафизический смысл происходящего, поэтически осмысленный Клюевым, несколько иной. Н.И. Толстой пишет: ««Погорелыцина» – не поэма гибели, огненного конца, а поэма огненного очищения и возрождения»[26]. При этом исследователь прослеживает ассоциативный ряд Клюева: горящий и несгорающий сакральный куст (Неопалимая Купина) – символизируемая им Богородица и в определенном смысле отождествленная с ней «мать сыра земля» – Россия. ««Погорелыцина», – продолжает Н.И. Толстой, – это поэма пожара России, но пламя в этом пожаре не уничтожающее, а очистительное»[27]. В этой концепции есть доля истины, но все же, как нам представляется, Н.И. Толстой не учитывает наиболее важного глубинного аспекта клюевского понимания происходящего.
Для Клюева уход святых, старцев, смерть народных мастеров, осмысляемая и как их вознесение на небо, наконец, самосожжение в храме «свекра с Силиверстом» являются одновременно и уничтожением, и «вознесением» «Святой Руси». Последняя, как мы выяснили выше, имеет у Клюева двуединую природу, хотя в этом двуединстве заметна тенденция к смешению Божественного и человеческого. Катастрофа, происходящая с Россией в результате этого смешения и подмены и, как последствия его, ложного, греховного метафизического выбора в пользу зла есть как бы отделение «божества» русского «мира» и его обоженного «человечества» от «человечества» безбожного и безблагодатного, или отделение «Царства» от «мiра». Те реальные божественные силы, та реальная благодать, которая присутствовала на Русской земле, пронизывала мир «Святой Руси», теперь покидает его. В реальности «хрестьянского» «третьего Рима» земное, человеческое и внеземное, святое, неотмирное субъективно смешивались. Но ведь объективно они различны. И вот теперь, когда отпадение от Бога, скрытое ранее покровом благочестия и ложной «святости», стало явным, все действительно святое уходит с Русской земли. Те, кто стяжал благодать Духа Святого и кто своим творчеством делал Россию действительно Святою Русью, покидают мир дольний, чтобы присоединиться к Тому, Кому они служили. Надо ли говорить, что вместе с ними в концепции поэмы прерывается и реальное богоприсутствие на Русской земле! То различие, та пропасть между Богом и людьми, о которой были склонны забывать, в ослеплении достоинствами «богоносного» народа, реально становится пропастью, актуализируется. Эмпирия неудавшегося Богочеловеческого организма – Руси – действительно сгорает и действительно уничтожается (в метафизическом смысле). Но идея, идеальный прообраз, божественный замысел остается. Отныне двуединства больше нет: земное принадлежит только земле, а небесное – только небу. Эмпирический мир, остающийся после катастрофы, больше не пронизан божественными энергиями; он безблагодатен и замкнут сам в себе. (Ср. эпизод с «сосновыми херувимами».) Это состояние осмысляется Клюевым как неестественное, невозможное и тем не менее реальное и как-то жутко закономерное. Пламень, возгорающийся в поэме, – божественного происхождения и означает возмездие и очищение. Ведь очищение, по христианским представлениям, – это не только высветление нетленного ноуменального ядра личности (в данном случае России, которая осмысляется как личность), но и уничтожение всех небогоугодных, «непотребных» и «нечистых» дел. Таким образом, огонь, загорающийся в поэме, тоже как бы двуедин, двузначен в своем единстве. Для праведного и спасенного – это огонь Божественной любви и просветления, для греховного и недостойного – «адский пламень». (Ср. в другом месте поэмы: «Адский пламень по углам» и т.д.) Отныне «Святая Русь» существует лишь, так сказать, в мире идей, в «умном месте», в эмпирии же существует обезбоженный и лишенный духовности мир, что для Клюева равносильно его небытию. «Святая Русь» возносится на небо.
«...О, человече Алексие!
Вези нас в горнюю Россию,
Где Богородица и Спас
Чертог украсили для нас!..»
Икон же души, с поля свечи,
Как белый гречневый посев,
И видимы на долгий миг,
Вздымались в горнюю Софию...
Нерукотворную Россию
Я – песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам.
Изображенное в поэме одновременно означает и вознесение «Святой Руси» на небо (перед святым, то есть неотмирным, ничто эмпирическое не властно), и потерю божественности Россией.
Невзирая на катастрофу и распад, «Святая Русь», «Горняя Россия», по представлениям автора, существует, и поэма задумана и осуществлена именно как авторитетное свидетельство человека, который не просто верит в это, но сам, своими глазами, по молитве своему Ангелу видел ее.
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молюсь!..»[28]
«Нерукотворная Россия» (прямое указание на неотмирность), отделенная теперь от российской исторической эмпирии, в этом контексте действительно может быть отождествлена с Неопалимой Купиной и Богородицей и, как таковая, вполне может быть адресатом молитвы.
«Ау, мой ангел пестрядинный,
Явися хоть на миг единый!»
В видении автору открывается в своем богатом многообразии «Русь потаенная», ждущая обращения «неверов». В контексте художественного замысла поэмы это не мечта и не воспоминание, не ностальгия по прошлому, но именно видение. И как следствие – стремление поэта к подвигу и покаянию:
«Моя родимая земля,
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук...» и т.п.
Отделение Божественного начала от реальной исторической действительности, от земной жизни приводит к страшным последствиям:
Сиговец змием полонен,
И нет подойника, ушата,
Где б не гнездилися змеята.
Между тем самодовольная и замкнувшаяся в себе жизнь «хозяев новых» идет своим чередом. «Змия» просто не замечают:
А в горенке по самогонке
Тальянка гиблая орет –
Хозяев новый обиход.
Поскольку дух и тело неразрывно связаны, отсутствие «пищи духовной» приводит и к чисто физиологическому голоду. И тут вспоминается предупреждение, выглядевшее столь странным в начале поэмы: «Чадца мои, не ешьте себя ни в нощи, ни во дни!» В системе поэмы метафизическое падение русской души, так сказать, «метафизическое прелюбодеяние», ведет к голоду и «самопоеданию» уже не только в духовном, но и в буквальном, физическом смысле. О глубинном символическим смысле этого «самопоедания» говорилось у нас выше.
И синеглазого Васятку
Напредки посолили в кадку.
Рука об руку с поеданием людей идет массовое самоистребление, «чтоб не досталось волку в сыть!».
Раздвоение изначального двуединства развертывается дальше. «Горняя Россия» продолжает жить в небесной истории:
Душа России, вся в огне,
Летит ко граду, чьи врата
Под знаком Чаши и Креста!
Земная жизнь, отвернувшаяся от Бога, осмысляется как бесовская:
Иная видится заставка:
В светлице девушка-чернавка
Змею под створчатым окном
Своим питает молоком –
Горыныч с запада ползет
По горбылям железных вод!
Это, так сказать, «дольняя» Россия, земная история. Но эта последняя не просто «расходится» с «Горней Россией», противится Божьему замыслу о себе. Она как бы зиждется на адской аналогии «Горней России».
Поведайте, добрые люди,
Жалея лесной народ,
Здесь ли с главой на блюде,
Хлебая железный студень,
Иродова дщерь живет?
Существует не только то, что в метафизическом плане выше «улицы», но и то, что ниже ее, что составляет скрытый план ее страшного, обезбоженного и безблагодатного состояния.
В конце поэмы наступает, однако, некое просветление. Вспомним уже цитированные выше строки:
Моя родимая земля.
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук,–
Узнает изумленный внук,
Что дед недаром клад копил
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван!..
Покаяние и духовный подвиг поэта во имя «Святой Руси», возрождения ее на земле сопряжены с творческим усилием, цель которого – восстановить утраченное русским народом единение с Богом. Но это вожделенное единение и утраченная в реальности гармония воссоздается в «песнях», в стихах, в художественном творчестве. «Спастись песнями о Горней России, смыть хулу на Духа Святого коробом песен о прошлом и будущем Родины, о нетленном Граде – вот отныне задача всеми преследуемого, непечатаемого поэта-бродяги»[29].
«Повесть о Лидде», на наш взгляд, – это в системе поэмы как бы поэтическая альтернатива реальности. В этой второй, «малой» поэме, наряду с имеющейся перекличкой с сюжетом «большой» поэмы, картина существенно иная по сравнению с ней, выражающей (опять-таки в системе произведения) как бы план реальной истории в неразрывной связи с мистическим аспектом последней.
Центральным моментом в «Повести о Лидде» является тот же процесс религиозного творчества, которым, по замыслу Клюева, славился Великий Сиг и о котором шла речь в начале поэмы:
Любовал Онорий высь нагорную
Повыстроить церковь соборную..
................................
На вратах чеканили Митрия,
На столпе писали Одигитрию.
Богородица Одигитрия (Путеводительница) оказывается как бы смысловым, идейным центром храма – главной святыни диковинного и чудесного (по контексту) заморского города. Изображение Божией Матери не просто есть в городе; город существует как бы ради него и вокруг него. Казалось бы, это уже привычная для клюевской поэзии картина гармоничной и самодостаточной жизни, в которой святыня (то есть начало неотмирное) находится в окружении созвучной и покорной ей природы. Однако тут происходит неожиданная вещь. Город, построенный «на славном Индийском помории», начинает роптать. Чего же не хватает «Лидде стольной»? Оказывается, что дисгармония (в том числе и, как нам кажется, по представлению самого автора) обусловлена отсутствием реалий российской природы (!). Богородица оказывается здесь как бы вне своего природного контекста (который мистически, в высшем смысле является для нее «своим»), что и вызывает ропот Лидды на свою горькую судьбу:
Закручинилась Лидда стольная:
«Сиротинка я подневольная!..» и т.п.
Нашествие же сарацинских полчищ, быть может, явившееся как бы наказанием за ропот (хотя это лишь один из возможных здесь смыслов), вопреки целям самих врагов неожиданно как раз и приводит к установлению вожделенной гармонии:
А где сеяли сита разбойные
Живописные вапы иконные,
До колен и по оси тележные
Вырастали цветы белоснежные...
«...Краски старой высокой культуры под ударами внешних сил жертвенно осыпаются на землю, и засемененная ими мать-земля покрывается цветами»[30]. Желание Лидды косвенно исполняется, хотя результат нашествия и неадекватен ему, ибо белые цветы, вырастающие на могилах врагов, – это не «ландыш белоснежный» и не «лазоревые курослепики», которых она просила. «Все к лучшему», – как бы убеждает нас поэт. Таким образом, в данном случае традиционный для Клюева мотив жертвенного умирания природы и воскресения ее в рукотворном храме, иконе и т.д., иными словами, в плодах человеческого труда, служащих прославлению Бога и поклонению Ему, как бы перевернут. Богородица (а именно фреска с изображением Одигитрии становится главным объектом вражеской агрессии) как бы сама засевает землю нетленными семенами будущей райской красоты. Белые цветы Лидды – это не земная, смертная и тленная природа, но райская природа «жизни будущего века».
Здесь мы имеем дело со своеобразным поэтическим отрицанием сюжета «большой» поэмы. В Великом Сиге лики уходят с икон. В Лидде – картина иная. Если там речь шла о внутренней порче человеческого сообщества и уходе божественных сил с земли, а мир был полонен «змием», то здесь речь идет о нетленности святыни, остающейся на земле, с людьми, несмотря ни на что. Вместе с тем заключительные строки поэмы наполнены не только верой, но и трагическим звучанием:
Лидда с храмом белым,
Страстотерпным телом,
Не войти в тебя!
То есть входа в Лидду с ее храмом, который неожиданно ассоциируется со «страстотерпным телом» Самого Христа, для нас, реально живых, нет (?!).
Лидда воспринимается как своего рода прообраз не столько возможного и сбывшегося, сколько страстно желаемого и невозможного. Нетленной и неуничтожимой оказывается в конечном счете лишь сама святыня:
И, ордой иссечен,
Осиянно вечен
Материнский Лик.
[*] Автор приносит самую глубокую и сердечную благодарность Валентине Борисовне Захаровой, бывшей первым редактором этого текста, с чего началось наше многолетнее творческое содружество. Не можем не помянуть добрым словом Виктора Аксючица и Глеба Анищенко – издателей и редакторов журнала «Выбор», где начальный вариант этой работы впервые увидел свет.
Владимир Семенко
[1] Райс Э. Николай Клюев. // Клюев Н.А. Сочинения. Т. II. 1969. С. 58, 81.
[2] В дальнейшем текст поэмы цитируется по этой публикации.
[3] Первоначально писалось в 1988 году. С тех пор появился целый ряд исследований по проблеме «Клюев и христианство», содержащих ценные эмпирические наблюдения. См., напр., ст.: Маркова Е.И. Душа воскресшая в поэзии Николая Клюева; Сепсякова И.П. Языческое, старообрядческое и христианское начала в поэзии Николая Клюева // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск, 1994. О биографии Клюева см.: Аэадовский К. Николай Клюев. Путь поэта. Л., 1990. И др.
[4] См.: Русская литература. 1979. № 1.
[5] Русская литература. 1979. № 1. С. 88.
[6] Там же. С. 92.
[7] Там же. С. 91.
[8] Там же. С. 92.
[9] Своего рода философия иконописи и вообще церковного искусства представлена, например, в работе П.А. Флоренского «Иконостас» // Богословские труды. 1972. Вып. 9.
[10] Русская литература. 1979. № 1 С. 82.
[11] Внимательно вчитавшись в текст и вдумавшись в его смысл, можно понять, что сохраненное во всех изданиях поэмы написание «с павлинами» является, по-видимому, авторской опиской, ставшей затем опечаткой и кочующей из одного издания в другое. «Слетятся павлинами» вполне понятно: поэт сравнивает «радуг полки» с яркой и разноцветной окраской павлиньих перьев. Иконописец воспринимает разноцветье мира, сравнимое с радугой и с павлином. Написание же «с павлинами» бессмысленно. Как могут павлины в буквальном смысле слететься в «персты и в зрачки» Павла?
[12] Север. 1986. № 9. С. 105–107.
[13] Цит. по: Клюев Н.А. Сочинения. Т. II. С. 304–311.
[14] В «Матери-Субботе» мы, таким образом, имеем дело со своего рода символико-метафорическим развертыванием евангельской притчи о зерне (Ин. 12, 24).
[15]Любопытно, что во второй части поэмы «Мать-Суббота» при сохранении того же символико-ассоциативного ряда вдруг неожиданно выясняется, что речь идет уже о рождении поэта.
[16] Разумеется, настоящий анализ «Матери-Субботы» не претендует на полноту; берется лишь интересующий нас аспект.
[17] Филиппов Б. Николай Клюев. Материалы для биографии. // Клюев Н.А. Сочинения. Т. 1. С. 83. В задачу статьи не входит специальное рассмотрение интереснейших проблем «Хлыстовство в русской литературе начала XX века» и «Хлысты и революция». Напомним лишь такие общеизвестные факты, как крайне неоднозначная фигура Григория Распутина, ставшего хлыстовской легендой вне всякой зависимости от того, каким он сам был в действительности, и сыгравшего поистине роковую роль в судьбе России, и хлыстовская стихия у гуманиста и «богостроителя» M.Горького. В романе «Жизнь Клима Самгина» «кормчая корабля» Марина Зотова, открыто заявляющая о своей ненависти не просто к Христу, но именно к Логосу (!), занимает весьма значительное место. Уже с головой уйдя в мистику и будучи хлыстовской «богородицей», главой общины, она продолжает поддерживать отношения с большевиком Кутузовым (!). В конечном счете для Горького (а роман, напомним, был написан в 1920–1930-е годы) хлыстовство было мистической аналогией «богостроительной» революции, осмысляемой на всех уровнях как прежде всего восстание против Христа. Эта «революционная мистика» и «мистическая революционность» ничуть не мешали, а только помогали народобожию Горького и других, подмене Бога народом («Бог есть народушко»). Революционная (и в конечном счете безрелигиозная) мистика была, таким образом, характерным для той эпохи путем к отрицанию всякой религии и всего трансцендентного вообще. Наконец, никак нельзя не упомянуть о теперь уже хрестоматийной, хотя и небесспорной, а по мнению некоторых, скандальной монографии А.Эткинда «Хлыст. Секты, литература и революция». (М., 1998), подробно разбирающей эту тему. При всем уважении к достоинствам исследователя не можем не заметить, что серьезным недостатком его интереснейшей книги является практически полное отсутствие в ней богословского плана, который в нашей методологии является все же ключевым. Поэтому при всем сходстве основных посылок и, так сказать, мотивов исследования (а первый вариант нашей работы был, повторяем, написан и опубликован на 10 лет раньше монографии А.Эткинда) наши подходы в конечном счете никак нельзя отождествлять. Более того, в полной мере признавая бесспорные заслуги коллеги, считаем своим долгом сказать, что нам крайне претит его заведомо безрелигиозная, скептическая установка.
[18] Клюев Н.А. Стихотворения и поэмы. Архангельск, 1986 С. 9.
[19] Об этом см., напр.: Бердяев Н.А. Проблемы Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева. // Путь, 1. М., 1911.
[20] В свете дальнейшего действия поэмы можно говорить о еще одном противопоставлении этого самопоедания – «самопричастия» (см. ниже) самосожжению «свекра с Силиверстом» как принесению себя в жертву Богу за всю тварь.
[21] Филиппов Б. Погорелыцина. // Клюев Н.А. Сочинения. Т. 2. С. 125.
[22] Там же. С. 397.
[23] Этот крайне важный вывод исследователя сопряжен, однако, с неверным, на наш взгляд, пониманием причины этого растления преимущественно как напасти, приходящей извне. Скорее всего, тут имеет место прежде всего внутренняя порча.
[24] О прельщении и «падении» Блока, связанном с культом «Прекрасной дамы», написано немало. Об этом говорили еще его друзья-современники – А. Белый, Д.С. Мережковский и другие, сами не чуждые тех же «увлечений». Блок в значительной степени отдавал себе отчет в том, что происходит с ним и со многими другими, свидетельство тому – его публицистика, в частности известная статья «О современном состоянии русского символизма», цитата из которой предпослана настоящему исследованию в качестве эпиграфа (См.: Блок А Собр. соч: В 6 т. Л., 1982. Т. 4. С. 141–151). Прельщение здесь понимается Блоком как явление, лежащее в основе его собственного творчества.
[25] Если вспомнить то, что говорилось выше о Настасье, то очевидно, что «богородица» здесь все-таки есть, но не та, подмененная. С учетом этого далеко не бесспорны и приводимые ниже построения Н.И. Толстого. Россия в известном смысле действительно отождествляется в поэме с Богородицей. Но с какой?
[26] Новый мир. 1987. № 7. С. 80–81.
[27] Там же.
[28] По свидетельству О.Мраморнова (Новый мир. 1987. № 12. С. 259), существует иной вариант, представляющийся нам по смыслу более логичным и существенно меняющий смысл фразы: «Святая Русь, тебе я, каторжный, молюсь!»
[29] Филиппов Б. Погорелыцина // Клюев Н.А. Сочинения. Т. 2. С. 134.
[30] Роднянская И.Б. Возвращенные поэты // Литературное обозрение. 1987. № 10. С. 18.